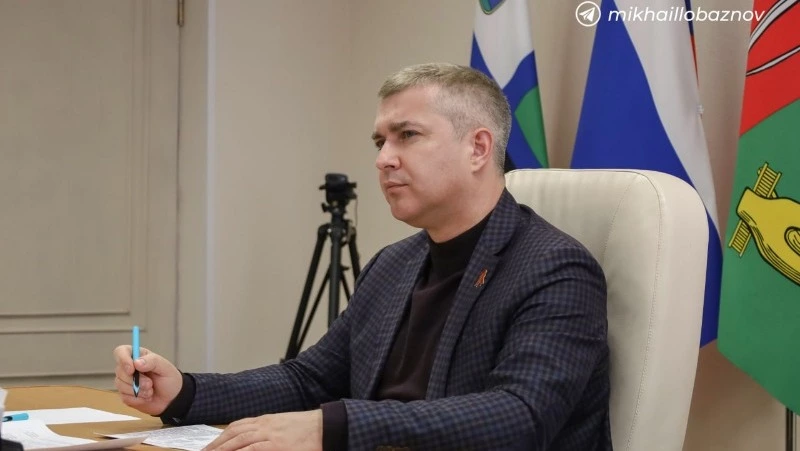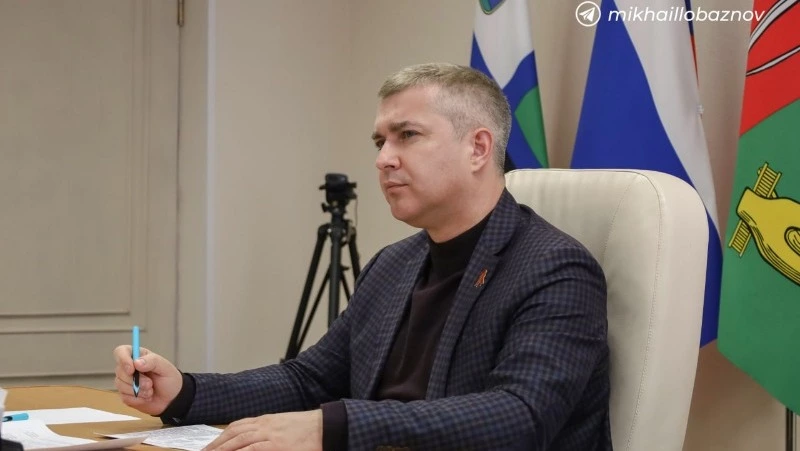Иван Дмитриевич Тулинов отметил вековой юбилей в 2025 году
Фронтовик живёт в селе Котово.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Тулинов в этом году отметил 100-летие. Он единственный из фронтовиков, который живёт в Котовской сельской территории.
У Ивана Дмитриевича богатая фронтовая биография. До войны его родители трудились в колхозе «1 мая». Мария Егоровна – дояркой и телятницей, отец Дмитрий Иванович – пас колхозное стадо. Воспитывали они пятерых детей – Ивана, Егора, Нину, Александру и Марию.
«Родителям постоянно помогали, – вспоминает Иван Дмитриевич. – Я перед занятиями в школе на пастбище с отцом коров выгонял, после школы встречал. В огороде работали. Хорошая была жизнь, может быть, не очень богатая, но дружная, весёлая. Не помню, чтобы кто-то с тревогой говорил о возможной войне. Мы были далеки от этого».
22 июня председатель сельского совета Алексей Егорович Тулинов собрал сельчан на митинг. Встревоженные люди, побросав работу и дома, собрались на небольшой площади возле здания сельсовета. Здесь на столбе электропередачи висел большой чёрный репродуктор.
«Сообщение Левитана слушали в полной тишине, – рассказывает Иван Дмитриевич. – И только когда отзвучали завершившие обращение правительства к народу позывные Москвы, заплакали женщины. Следом за ними, ничего не понявшие, но испугавшиеся слёз матерей, дети».
Ивану Тулинову исполнилось в тот год 15 лет. Он закончил семь классов, и учиться ему больше не довелось. Красная армия, ожесточённо обороняясь, медленно отходила на восток, немцы рвались к Москве. Отца призвали на фронт в первые дни войны. Вскоре на него пришла похоронка. В июле 1942 года фашисты оккупировали Старооскольский край. Иван Дмитриевич рассказал, что самый сильный в своей жизни страх он почувствовал во время немецких бомбёжек.
«Мы прятались в логах и оврагах. Лежали, закрыв ладонями уши, зажмурив глаза. Думали только одно – хоть бы мимо… Одна из бомб попала в угол нашей хаты. Её разнесло на щепки на месте дома, сараев, двора и огорода образовалась большая воронка. Мать с пятью детьми пустили на квартиру соседи. Но у них было, как говорится, семеро по лавкам. К зиме из дома пришлось съехать в сарай. С одеждой и едой понемногу помогали соседи, но у них и самих мало что осталось. Немцы и мадьяры забирали всё подчистую – скот, продукты, тёплую одежду».
Когда оккупанты стали хватать и отправлять в Германию сельскую молодёжь, Иван с друзьями-ровесниками сбежал из дома. Подростки выкопали в логу, на окраине леса, землянку и жили там, пока не начались холода. Пришлось вернуться в село и прятаться в погребах. Ребят никто не выдал, и им удалось избежать отправки на чужбину.
Глубокой январской ночью 1943 года в сарай, где жила семья Тулиновых, громко постучали. Кто-то крикнул сердито хриплым, простуженным голосом: «Открывай!» Выглянув на улицу, Иван увидел несколько красноармейцев-лыжников, одетых в белые маскхалаты. «В доме немцы есть?» – спросил один из них. «Нет, – ответил Иван. – Вчера удирали из села». Красноармейцы посовещались о чем-то вполголоса, ушли по направлению к Старому Осколу.
«Утром мы вышли из сарая, соседи тоже повыбрались, кто из домов, кто из землянок. Было тихо, – вспоминает Иван Дмитриевич. – Только на белом-белом снегу – следы от лыж. Оккупация завершилась….»
Односельчанин Тулиновых, у которого тоже был разрушен дом, выкопал яму, над ней поставил плетёную крышу, получилась землянка. Он за копейки продал это жильё Тулиновым и уехал к родственникам. Только перебрались в землянку, как Ивану, которому уже исполнилось 18 лет, принесли повестку из военкомата.
«Нас, новобранцев, отправили в посёлок Шимерский затон Выксунского района Горьковской области, – продолжает ветеран. – Начали обучать на связистов, но через три недели перебросили под Москву, где в районе станции Кунцево тогда находилось артиллерийское училище. Фронту были нужны артиллеристы-зенитчики. Многие мои товарищи не успели закончить школу. Не знали толком ни физики, ни алгебры, ни геометрии, которые хотя бы в минимальном объёме нужны хорошему артиллеристу. Мы засели за учебники. Нас обучали по силуэтам самолётов определять, кто приближается к батарее: наши «ЯКи», «ТБ-3», американские «дугласы», которые СССР приобретал по ленд-лизу или немецкие «мессершмиты», «юнкерсы», тяжёлые бомбардировщики «хенкели-111». Мы проучились всего два месяца… Артиллерийскую науку продолжили постигать на фронте – в перерывах между боями слушали пояснения командиров и более опытных бойцов».
Ивану Тулинову присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром орудия – 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки образца 1939 года. Эта первая советская автоматическая скорострельная зенитная пушка, запущенная в крупносерийное производство, была предназначенная для стрельбы по воздушным целям, парашютным десантам, аэростатам, а также наземным целям – танкам, отдельным огневым точкам, пехоте. В минуту она выпускала 60 снарядов.
«Наша дивизия была резервной, поэтому бросали туда, где срочно требовалась помощь – в наступление, на прорывы, – рассказывает Иван Дмитриевич. – Я воевал на III-й Белорусском фронте, Смоленском направлении. Здесь впервые потерял друга. В одной части со мной был Толя Шакалов из Озёрок. Мы только прибыли под Смоленск и оборудовали площадку для нашей пушки. Делали это ночью, чтобы днём позицию не обнаружил противник. Толик в темноте наступил на немецкую выпрыгивающую противопехотную мину, она взорвалась, и он погиб. Потом – Иван из Орловской области, Коля Костиков из Брянской… Столько ребят погибло – молодых, весёлых, умных…»
...Красная Армия всё увереннее теснила противника на запад. Приближалась к границам СССР.
«Кто-то подобрал брошенную гармонь и принёс в часть, – продолжает вспоминать Иван Дмитриевич. – Я как-то приноровился к ладам и стал подбирать на слух популярные песни «Вставай, страна огромная», «Бой за Родину», «Если завтра война», «Синенький платочек» и многие другие. Эти песни поддерживали в нас боевой дух, желание победить и вернуться домой, к родным и близким».
К Ивану Тулинову судьба благоволила – он ни разу не был ранен. Но во время форсирования Днепра, когда дивизию перевозили на паромах и понтонах, немцы открыли ураганный миномётный огонь, их авиация бомбила переплаву, и вода кипела от взрывов.
«Наш паром сильно качало. Я стоял на «крыле» грузовика «Студебеккер». Его дверь от удара взрывной волны в борт парома распахнулась и отбросила меня на перила. Не упал в бурлящую воду каким-то чудом. Но получил открытый перелом правой ключицы. У нас был старенький саниструктор Александр, который воевал ещё в Первую мировую. Он поглядел и сказал, что в госпиталь ехать не обязательно, вправил кость и наложил шину. Руке нужен был покой, но шли бои. Поэтому перелом сросся неправильно. Сколько лет с тех пор прошло, а рука на ощупь всегда холодная и болит».
В июне 1944 года 33-я зенитно-артиллерийская дивизия, приняла активное участие в наступательной операции «Багратион», итогом которой стало полное освобождение Белоруссии. После её завершения, дивизии были присвоены орден и новое название: Витебская ордена Александра Невского 33-я дивизия резерва главного командования.
До Берлина оставалось несколько километров, когда пришла долгожданная весть о капитуляции немецких войск. Но о мире было говорить рано: солдат и орудия погрузили в поезд и отправили на Дальний Восток, на войну с Японией.
«Нас привезли в Ханкайский район Приморского края, – делится воспоминаниями Иван Дмитриевич. – На берегу озера Ханка расположено село Камень-Рыблов, которые окружает уссурийская тайга. 8 августа началась мощная артподготовка, били мы по передовой Квантунской армии без перерыва часов 5. Снарядов выпустили – несть числа, после 50-го ящика я их считать перестал».
Дивизия приняла участие в битвах за города Мулин, Мудодзян, Харбин, там японские войска окружили и добили. После капитуляции японцев 33-ю дивизию вывезли в Тюмень.
«Мы с нетерпением ждали демобилизации, – говорит Иван Тулинов. – Строили планы. Многие хотели остаться, чтобы учиться и получить мирную профессию. К нам в часть приходили представители разных профессиональных училищ. Однажды пришла преподавательница из музыкального училища. Послушала, как играем я и дружок мой Сашка Суверток, которого мы прозвали Сашка-белорус, и пригласила на прослушивание. И нас приняли! Дали бесплатное питание, обмундирование, стипендию 12 рублей. Мне всё нравилось. Но через три недели пришло горькое письмо от матери. Одна она с четырьмя детьми не справлялась. Ну, чем я мог помочь, учась в училище? Забрал документы и вернулся в родное село. Жалел очень. Но мать есть мать. Семья по-прежнему жила в землянке и перебивалась с хлеба на воду. Первой моей задачей стало – построить дом. Что я и сделал».
Ивана Дмитриевича взяли помощником бригадира полевой бригады, а через несколько месяцев назначили бригадиром. Молодой, симпатичный парень, гармонист нравился девушкам. А ему – девчонка Александра с соседней улицы. В детстве он дёргал её за косички. Со временем она превратилась в красивую девушку. Встретились на танцах в клубе, где Иван играл. Они поженились, родились дочери Елена, Валентина и сын Анатолий. В 1950 году И.Д. Тулинова назначили заведующим молочно-товарной фермой. За высокие показатели в молочном производстве Иван Тулинов был награждён орденом Трудовой славы III степени.
«На ферме я проработал ровно 50 лет. Даже в отпуск не ходил. Было 1200 дойных коров, молодняк, всего 126 работников, 36 доярок. Семь зданий: коровники, кормоцеха, кормохранилища, силосные траншеи. Директором колхоза тогда был Николай Иванович Чубыкин, отменный знаток сельского хозяйства. С ним мы проработали 29 лет. Производство молока тогда было у нас на высоте – надои получали свыше 25 литров с коровы. Этого добивались с помощью особого рациона, в который входили силос, кормовая свёкла, свекольный жом, тёплое пойло с патокой. Я до сих пор по тому, как молоко течёт из бутылки, могу определить его жирность. Самое главное надо знать – если на стенке стакана молока не остаётся, то это вода. К нам делегации из соседних областей приезжали поучиться. Сельское стадо 120 голов насчитывало».